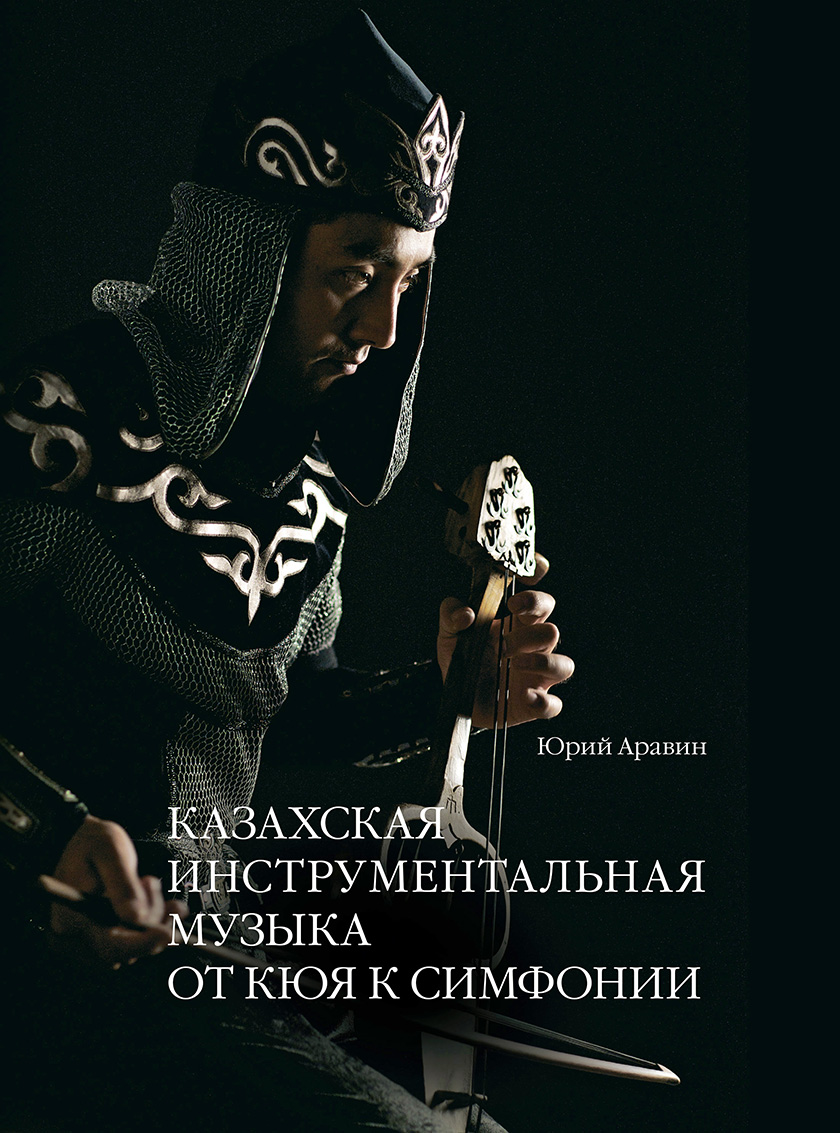Сапар Койчуманов. Базар. Чач-тарач. «Бродяга»
- Проза
Решили как-то мой дед Асанкул с моей апашкой Майрам продать корову, уж больно много с ней хлопот стало. Позвали нашего соседа, деда Исо, чтобы довести нашу кормилицу до базара. Дед Исо – мужик хоть и крепкий, но любитель выпить был знатный. Бабка, как знала, сунула в котомку деду Асанкулу лепешку, луковицу и кусок мяса, чтобы зря деньги не тратили на закуску. Дескать, до райцентра идти километров десять, проголодаетесь – перекусите.

Солнце уже вовсю припекало, когда дед Асанкул, опираясь на палку, вышел из дома. Рядом, поправляя платок, стояла апашка Майрам с озабоченным лицом. У ворот, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, ждал дед Исо, держа в руках потертый хурджун.
– Ну, что, Асанкул, готов? – спросил Исо-ака, хитро прищурившись. – Эх, жалко корову-то, хорошая кормилица.
Дед Асанкул только вздохнул в ответ.
– Смотри, Исо, постарайся, чтобы цену хорошую дали. Корова у нас дойная, молоко жирное. Не продешеви, – наставляла апашка Майрам, поглаживая корову.
– Не волнуйся, Майрам, я знаю толк в коровах! Без хорошей цены не вернемся, – бодро ответил дед Исо, подмигнув ей.
– Исо, только прошу тебя, много не пейте! – строго сказала апашка. – Сегодня базарный день, а ты знаешь, как это бывает...
Исо-ака обиженно поджал губы.
– Да что мы, дети что ли? Доведем корову, продадим и сразу обратно. Ни капли в рот!
Апашка Майрам недоверчиво посмотрела на него, а потом повернулась к мужу:
– Асанкул, вот, возьми. Я тебе лепешку и мясо положила. И луковицу. Чтобы в райцентре не тратился зря на еду. Дорога не близкая, проголодаетесь.
Она протянула ему котомку с едой.
Дед Асанкул принял котомку и поблагодарил жену.
– Ну, Майрам, не переживай. Все будет хорошо.
Взяв поводья, дед Исо легонько подтолкнул Буренку к выходу. Троица двинулась по пыльной дороге в сторону райцентра.
Мне апашка наказала:
– Ты присматривай за ними.
И вот отправились мы в путь. Я, дед Исо, наша Буренка и мой дед Асанкул, легонько подгонявший рогатую спутницу прутиком. Шли неспешно, переговаривались о том, о сем, о ценах на молоко и о том, что нынче урожай яблок выдался на славу. Буренка фыркала, поглядывая на сочную траву вдоль дороги, а дед Асанкул ворчал ей в ответ:
– Погоди, красавица, вечером наешься до отвала!
Солнце припекало, и пот стекал у меня по лбу. Я вытер его рукавом рубахи и спросил у деда Исо:
– Дед Исо, долго еще до базара?
Дед Исо, высокий и сухой, как старый тополь, погладил свою длинную седую бороду и ответил:
– Да уж немного, внучок. Часа два ходьбы, не больше.
Недалеко от нашего дома, у самой дороги, росло раскидистое абрикосовое дерево. И не просто росло, а хранило дедовскую тайну. Под его корявыми корнями у деда Асанкула был припрятан небольшой тайник... скажем так, «успокоительного». Сам я не видел, но поговаривали, что там у него зарыта фляжка с крепким вином для особых случаев. Я часто видел, как он тайком оглядывается в сторону этого дерева, словно проверяя, на месте ли его сокровище.
Дед Асанкул, заметив мой взгляд, закашлялся и отвернулся.
– Что уставился, как баран на новые ворота? – пробурчал он.
Я лишь пожал плечами, но про себя подумал: «Знаю я твое дерево, дед».
И тут дед Исо, словно прочитав мои мысли, хитро прищурился и сказал:
– Асанкул, а помнишь, как мы в молодости под этим абрикосом сидели? Эх, времена были!
Дед Асанкул, покраснев, как рак, отмахнулся от него.
Дед Исо лишь усмехнулся в ответ.
– А кто это у нас на сенокосе, помнится, фляжку в стогу прятал? Да еще и песни потом на всю округу распевал про несчастную любовь?
Дед Асанкул покраснел еще сильнее и засмеялся:
– Замолчи, старый ворон! Ничего я не прятал и не пел! Молодой был.
Я тихонько хихикнул, а дед Исо, глядя на разгоряченного спором Асанкула, добавил:
– А откуда вино? Конечно я сварил. Пьешь его как сок, зато потом… И, самое главное, на утро голова не болит. Лекарство, а не напиток!
– Это точно. Голова не болит, – проворчал дед Асанкул, утирая пот со лба.
Сначала шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Дед Исо то и дело поглядывал на котомку в руках деда Асанкула. Наконец не выдержал:
– Слушай, Асанкул, а что там тебе апашка положила? Уж больно аппетитно пахнет.
Дед Асанкул усмехнулся:
– Лепешка, луковица и мясо. Майрам позаботилась, чтобы мы голодными не остались.
Дед Исо мечтательно закатил глаза.
– Ммм... лепешка с мясом... Асанкул, может, перекусим сейчас? До райцентра еще далеко, а аппетит уже разыгрался.
Дед Асанкул покачал головой:
– Нет, Исо. Лучше дойдем до родника и абрикоса, там и поедим. Воды ключевой попьем, в тени отдохнем.
Дед Исо вздохнул, но спорить не стал. Шли дальше, и с каждым шагом запах лепешки становился все более манящим. Наконец добрались до родника и абрикосового дерева.
Солнце палило нещадно. Пыль висела в воздухе, словно золотая дымка, обволакивая виноградники, что террасами спускались к реке. Я, как всегда, плелся позади дедов – моего родного деда Асанкула и его лучшего друга, деда Исо.
И вот, проходя мимо того самого абрикосового дерева, дед Асанкул как-то замялся, оглянулся по сторонам, будто боялся, что бабка Майрам за нами следит. И тут же, как бы невзначай, предложил:
– Батоно Исо, может, разомнем кости? Тут тенечек хороший, отдохнем немного?
Дед Исо, услышав слово «отдохнем», встрепенулся.
– А чего бы и нет? Корова-то вон как спокойно щиплет травку.
Под сенью раскидистого абрикоса дед Асанкул достал котомку. Потом метнулся к дереву, покопался у корней и, торжествующе улыбаясь, выудил заветную фляжку. Протер ее рукавом и, достав из хурджуна деда Исо стаканчик, налил каждому по первой.
Выпили они по стаканчику, и сразу лица их как-то посветлели, разгладились. Дед Исо принялся рассказывать анекдот про тещу и медведя. Дед Асанкул хохотал до слез.
– Исо, ну ты и сказочник! – сквозь смех проговорил он, утирая слезы.
– А что, Асаке? Правда жизни! – отмахнулся дед Исо. – Моя-то теща еще хуже медведя была. Помню, как…
– Погоди, Исо, дай я скажу, – перебил его дед Асанкул, откашливаясь. – Знаешь, почему теща такая злая?
Дед Исо прищурился и покачал головой.
– Нет, скажи, удиви меня.
– Потому что когда Бог раздавал злость, ее не было дома. А когда вернулась, осталась только злость на себя!
Оба деда захохотали. Я стоял рядом, прислушиваясь к их разговору. Их смех разливался над степью.
– А знаешь, Асаке, – успокоившись, сказал дед Исо, – говорят, чем старше становишься, тем больше начинаешь ценить простые вещи. Как этот глоток вина, как тень абрикоса, как солнышко в небе.
– Ох, Исо, правду говоришь! – согласился мой дед. – И чтобы рядом были люди, с которыми можно и помолчать, и посмеяться от души.
– Вот именно! Как мы с тобой, Асанкул. Сколько мы с тобой пережили, сколько выпили!
– Ого-го! – подхватил мой дед. – И сколько еще выпьем, дай Бог!
Он налил еще по одной. Я знал, что после второй рюмки они обязательно начнут вспоминать молодость, рассказывать про своих жен, про войну, про колхоз… Эти истории я знал наизусть, но каждый раз слушал с удовольствием. Это была их жизнь, их память, и делились они ею со мной щедро, как и вином друг с другом из заветной фляжки под абрикосовым деревом.
Захотели уже по второй махнуть, да тут наша корова как замычит громко, как начнет головой мотать. Могла же и бабка услышать.
– Эх, Буренка, Буренка, – пробормотал дед Асанкул, – все понимаешь, а сказать не можешь.
Решили мы, что с отдыхом пора заканчивать, а то до базара так и не доберемся. Спрятали фляжку обратно под абрикосовый корень (до лучших времен, как говорится) и, прихватив корову за веревку, продолжили свой путь.
И хоть идти нам еще было не близко, дорога казалась уже не такой утомительной. Дед Исо продолжал травить анекдоты, мой дед напевал ему старые песни, а Буренка, радуясь свежей траве, шагала себе, помахивая хвостом, в сторону базара, где ее ждала новая жизнь.
– Эх, Буренка, Буренка, – бормотал дед Асанкул, подгоняя ее хворостинкой – все понимаешь, а сказать не можешь. Знаешь ведь, что продавать тебя везем…
Буренка, словно в ответ, жалобно замычала, ткнувшись мордой в плечо деду Исо.
Дед Исо рассмеялся.
– Асанкул, а помнишь случай, когда ты… – начал он, но дед Асанкул его перебил.
– Ой, Исо, да что ты мне рассказываешь! У тебя самого таких случаев – на целую книгу хватит! Вот, например, как ты однажды…
Тут дед Исо остановился и спросил:
– Подожди, Асанкул, вспоминать. А что ты скажешь покупателю? Как будешь Буренку хвалить?
Дед Асанкул почесал затылок.
– Да что тут хвалить? Корова как корова. Молока много дает, спокойная как …, – Асанкул-ата замялся.
– Эх ты, Асанкул! – махнул рукой дед Исо. – Так ее никто не купит! Надо говорить: «Эта корова – настоящая кормилица! Молоко у нее – как сливки!»
Дед Асанкул усмехнулся.
– Исо, да ты и продавец! С тобой корову за два табуна отдадим!
Они оба рассмеялись, и дорога, казалось, стала короче и светлее. Буренка же, ничего не подозревая, продолжала жевать сочную траву, словно предвкушая новую, полную приключений жизнь.
Мы продолжали путь под шутливые перебранки стариков. Я знал, что хоть они и ворчат друг на друга, но дружат крепко, как корни того самого абрикосового дерева. И я надеялся, что когда-нибудь, когда стану совсем взрослым, дед Асанкул поделится со мной секретом своего «успокоительного». А пока мне оставалось лишь гадать, действительно ли вино деда Исо такое легкое, как сок, и не болит ли от него голова по утрам.
– Кто не был на восточном базаре, тот не знает, что это такое, – любил говаривать старый сторож Алим, почесывая свою седую бороду. И был прав, как тысяча и одна ночь.
Здесь, под раскаленным солнцем, среди гула голосов, висела надпись «Жерменке», что значит ярмарка. Здесь можно было купить все: от шелковых ковров, сотканных руками мастериц, до засушенной саранчи «от всех болезней». От пряных специй, дурманящих разум, до ржавого гвоздя, отчаянно ждущего своего часа.
У небольшой группы людей мы остановились. Здесь проходило состязание бойцовых петухов. Не то чтобы нас интересовали петушиные бои, но завороженность в глазах этих людей, жадно впивавшихся взглядами в середину круга, заставила притормозить. Пыль клубилась в воздухе, пропитанном запахами пота, земли и какого-то животного возбуждения. Два петуха, распушив перья и воинственно поклевывая землю, кружили друг вокруг друга, готовые к схватке.
Тут же, у самого круга, стояли два старика. Они яростно спорили, перебивая друг друга, жестикулируя и то и дело тыкая пальцами в сторону петухов. Один, маленький, жилистый, с красным от напряжения лицом, кричал что-то хриплым голосом, захлебываясь от эмоций. Второй, высокий, с седой окладистой бородой, напротив, говорил степенно и спокойно, хотя в его глазах горел не меньший азарт.
– Мой петух сильней! – выкрикнул первый старик, яростно тряся кулаком. – Он уже победил трех соперников! Три! Ты понимаешь, что это значит?! Он прирожденный боец!
– Посмотрим! – парировал второй старик, покачивая головой. – Твой петух всего лишь удачлив. Ему просто везло с противниками. Мой же петух опытный и мудрый. Он знает все уловки, все слабые места соперника. Он как шахматист на арене!
– Шахматист?! Да твой петух скорее как старый ворчун, который забыл, как драться! – завопил первый старик, брызжа слюной. – Он еле двигается!
– Он бережет силы! – спокойно ответил второй. – Он ждет подходящего момента. Терпение – вот что отличает настоящего воина от обычного забияки.
– Терпение?! Да мой петух ему сейчас все перья выщиплет, пока он там ждет свой «подходящий момент»! – крикнул первый старик, и его голос сорвался на визг.
– Посмотрим, посмотрим, – пробормотал второй старик, прищурившись. – Терпение и мудрость всегда побеждают грубую силу.
В этот момент петухи сошлись в яростной схватке. Перья летели во все стороны, слышались хриплые крики и звонкое клацанье клювов. Толпа замерла, затаив дыхание. Старики же, забыв о споре, с одинаковым напряжением следили за боем. Судя по их лицам, на кону стояло нечто большее, чем деньги.
Петухи схватились неистово. Однако, несмотря на свою молодость и силу, петух первого старика не мог одолеть более опытного и мудрого петуха аксакала.
В конце концов петух аксакала нанес решающий удар, и бой был закончен.
Старик-победитель опустился на корточки рядом со своим петухом и ласково погладил его по перьям.
– Молодец, мой храбрый воин, – удовлетворенно пробормотал он. – Ты победил!
Соперник аксакала, расстроенный и униженный, молча повернулся и пошел прочь.
Аксакал и его петух остались на месте, гордые и торжествующие…
Итак, мы на большом базаре, где, не выходя, может прожить всю свою жизнь любой азиат. Здесь он может одеться, обуться, вымыться в бане, поесть шурпы или плова, напиться чаю и провести ночь в чайхане.
В этот базарный день из пестрого хаоса крикливых торговцев, блестящих шелков и дурманящих запахов плова выделялась странная картина. Два деда, приняв серьезный вид, как будто решая судьбу мира, стояли у привязанной веревкой коровы. Корова, надо сказать, была хороша: масть – цвета топленого молока с кофейными пятнами, вымя – налитое и упругое, а глаза смотрели с тихой коровьей мудростью, повидавшей на своем веку не один базар.
– Эй, люди добрые! Не проходите мимо! – зычным голосом зазывал дед Исо, хлопая Буренку по крупу так, что пыль поднималась столбом. Его голос, раскатистый и звонкий, перекрывал собой даже крики продавцов дынь. – Корова – золото! Молоко – как слезы ангела! Масло – как мед!
Асанкул стоял рядом, сурово нахмурив брови и осматривая потенциальных покупателей. Он был молчалив, но его взгляд кричал: «Эта корова достойна только самого лучшего хозяина!»
Покупатели подходили, рассматривали Буренку с пристрастием, трогали ее бока, заглядывали в рот, подмигивали дедам и перешептывались. Торговались. Предлагали смешные деньги.
– За такую корову я дам вам пять баранов! – предлагал толстый торговец в бархатном халате, обмахиваясь расшитым платком.
Его живот выпирал, словно надутый бурдюк, а взгляд был алчным и прищуренным.
Дед Исо презрительно взглянул на него.
– Пять баранов? За Буренку? Да я за тебя самого дам пять баранов, чтоб глаза мои тебя больше не видели! – он махнул рукой в сторону торговца, словно отгоняя назойливую муху.
Асанкул молча кивнул, соглашаясь с метким замечанием друга.
Толстяк нахмурился, но обижаться не стал, привыкший к подобным выпадам на базаре.
– Ладно, ладно, не горячись, дедуля! Я просто пытаюсь сбить цену. А что если я дам шесть баранов и мешок пшеницы?
Дед Исо замолчал, почесывая затылок. Асанкул продолжал молча хмуриться, его взгляд был прикован к Буренке. Казалось, он читает в ее коровьих глазах что-то, недоступное другим.
– Пшеница у нас своя есть, – наконец ответил Исо. – А бараны… бараны – это хорошо. Но Буренка – это не просто корова. Сколько лет она нас кормила! Молоком поила, сыр давала, каймак… Пальчики оближешь!
– Да, – наконец подал голос Асанкул, его голос был хриплым, словно кашель. – Не за деньги мы ее продаем. Ищем ей хорошего хозяина. Чтоб любил ее, кормил хорошо, не бил. Чтоб обращался с ней, как с родной.
Толстяк нахмурился.
– Любить корову? Да я ее доить буду, вот и вся любовь!
Исо и Асанкул переглянулись. В их глазах читалось разочарование.
– Нет, – решительно сказал Исо. – Не продадим мы тебе Буренку. Не нужна она тебе.
Толстяк фыркнул и, махнув рукой, пошел прочь, ворча под нос:
– Старые дураки! Сами не знают, чего хотят!
Асанкул, стараясь сгладить ситуацию, подталкивал Исо локтем.
– Ну, не нужно так резко, Исо. Может, человек просто пошутил…
Но дед Исо был непреклонен.
Солнце палило нещадно. Пот ручьями тек по лицам дедов. Буренка устала от суеты и шума. Она лениво пережевывала жвачку и поглядывала на дедов своими большими грустными глазами.
Мне было скучно стоять с ними, и я решил побродить по базару.
Торговля была в самом разгаре. Расстелив прямо на земле циновки или обрывки мешковины, дехкане выложили для продажи все, что созрело на их полях и в садах. Белели, желтели и зеленели целые горы дынь и арбузов. Матовые, словно покрытые изморозью, огромные грозди винограда лежали на рваной мешковине чуть ли не под ногами суетливой шумной толпы продавцов и покупателей. Сочные душистые персики и тугие сливы скромно ютились в разнокалиберных корзинах и ящиках у подножия арбузных и дынных гор.
В стороне, на невысоких прилавках под камышовыми навесами, багровели куски свежего бараньего мяса. Пока бойкий продавец в измазанном кровью переднике продавал очередную порцию, тут же, около столика, привязанный обрывком веревки, покорно ждал своей очереди тучный меланхоличный баран. Совсем рядом с мясниками, прямо под открытым небом, развернули свои немудреные кухни шашлычники. Синеватый, возбуждающий аппетит дымок от жаровен разносился по базару.
Молодой узбек, присев на корточки, долго со знанием дела выбирал дыню. Разрезал ее на дольки.
– Эй, парень! Попробуй дыня. Такой дыня нигде не найдешь. С самой Паргоны привез.
Он протянул одну дольку мне. Я впился зубами в сочную мякоть.
Затем, выбрав еще одну дыню, он протянул ее мне.
– Держи, парень, на память. Приезжай обязательно к нам, в Паргону. Я угощу тебя настоящим ферганском пловом.
Солнце встало в зенит.
– Обед, – объявили мои деды.
Чайхана. Чайхана на базаре – ритуальное место. День был жаркий, и, набродившись по базару, мы изрядно утомились. Вот и решили заглянуть в чайхану, где могли немного передохнуть и утолить жажду. Чайхана притулилась между дуканом, в котором пожилой индус торговал пестрыми тканями, и небольшой мастерской, где под стук маленьких молоточков двое шустрых подростков ремонтировали прохудившуюся утварь.
Внутреннее помещение чайханы было довольно просторным. Почти половину этого помещения занимали деревянные топчаны, поверх которых лежали старенькие выцветшие коврики. С трех сторон достархана вдоль глинобитных стен с плюшевыми ковриками были уложены валики и подушки, облокотившись на которые полулежали несколько посетителей.
Посреди комнаты, ближе к дверному проему, напоминающему ворота, прямо на земляном полу стоял огромный самовар. Таких самоваров я в своей жизни никогда не видел. Он был похож на двухсотлитровую медную бочку с четырьмя здоровущими ручками по бокам и двумя кранами, увенчанными фигурными вентилями и размещенными на противоположных сторонах самовара. Самовар был отполирован чьими-то трудолюбивыми руками до такой степени, что в нем, как в выпуклом кривом зеркале, отражались искаженные лица посетителей чайханы и вытянутые фигуры людей, проходящих по улице мимо чайханы. Сверху на самоваре была установлена длинная жестяная труба, через дыру в потолке выходившая за пределы чайханы.
Тут же, рядом с самоваром, в небольшом металлическом ведре лежали кусочки древесного угля. Какой-то чумазый парнишка лет двенадцати-тринадцати крутился около самовара, то подбегая к нему, то резко отскакивая в сторону. Вот он в очередной раз подскочил к самовару и, ловко схватив жестяную трубу за приделанную сбоку ручку, поднял ее над самоваром. Заглянув в топочное отделение самовара, бача, видимо убедившись, что угли в самоваре догорают, не выпуская ручку трубы, нагнулся к ведру и, выхватив из общей кучи несколько кусочков угля, ловко забросил их в топку самовара. Установив трубу на прежнее место, парнишка отбежал к проему и, подняв с земли латунный «кумган» с длинным носиком, начал усердно разбрызгивать воду перед чайханой. Делал он это для того, чтобы дорожная пыль, перемолотая ногами прохожих и колесами многочисленных телег, не мешала посетителям чайханы спокойно отдыхать.
Слева от самовара стену чайханы подпирал небольшой буфет, где на полках лежали несколько десятков разнокалиберных пиал, уложенных стопками. Там же расположилась дюжина небольших фарфоровых чайников, расписанных пестрым восточным орнаментом. Один чайник, стоявший особняком на краю буфета, был во много раз больше своих собратьев, вмещая в себя не меньше двух литров жидкости. Рядом с буфетом стоял небольшой резной столик, заставленный всевозможными стеклянными и металлическими банками и баночками. В этих посудинах чайханщик Ариф-ата хранил все сорта чая, какие только производились на белом свете. И чем больше была емкость, тем дешевле был сорт чая.
На каждой банке поверх фирменной наклейки на индийском или английском языках была наклеена красочная картинка с арабской вязью. По всей видимости, чайханщик таким образом обозначал сорта чая, подаваемого в его заведении, чтобы ни у кого из посетителей не было сомнений в том, какой именно чай они пьют из своих пиал.
Ариф-ата был весьма преклонного возраста. Его лысую голову украшала тюбетейка, а подбородок прикрывала небольшая седая бородка. По всему было видно, что он ревностно следит за своим внешним видом, постоянно пользуясь услугами цирюльника. Одет чайханщик был своеобразно. Поверх длиннополой рубахи и широченных штанов на нем была суконная блуза, расшитая разноцветными нитями и всякого рода «причиндалами». Здесь были и перламутровые блестки, в сочетании с разноцветными бусинками бисера образующие не только орнамент, но даже слова. И маленькие зеркальца, в которые любой посетитель мог мельком увидеть свою физиономию. И даже обыкновенные фигурные жестянки, вырезанные из металлических банок из-под чая.
Его ноги были обуты в смешные кожаные сапожки с сильно загнутыми вверх носами, а тюбетейка, венчающая голову, была похожа на купол мечети. И сапожки, и тюбетейка, как и блуза, были расшиты цветными шелковыми нитками, блестками и мелким бисером.
Обратив взор на чайханщика с заварным чайником в руке, я задал ему традиционный в таких случаях вопрос:
– Калай сиз?
Стало быть, я спросил о том, как у него обстояли дела. В широком смысле этого слова. Чайханщик, словно очнувшись от спячки, закивал головой и быстро затараторил:
– Жаксы, жаксы.
Значит, все у него хорошо.
Потом чайханщик с аналогичным вопросом обратился ко мне, и я в ответ констатировал, что у меня дела идут не хуже. Я, наверное, и дальше бы продолжал обмениваться любезностями с чайханщиком, справляясь о его здоровье и интересуясь тем, как обстоят дела в его семье, но наш разговор прервал подошедший помощник чайханщика. На керамическом подносе он принес два заварных чайника, три пиалы и небольшую тарелочку, в которой горкой лежали сушеные плоды инжира и урюка. Расставив все это перед нами, помощник жестом руки поочередно показал на чайники и о чем-то спросил моего деда.
– Он спрашивает, какой чай будем пить – грина или индийский, – перевел дед, поглаживая свою седую бороду.
Сколько уже твержу деду, что зеленый чай – тоже индийский, но он все никак не уяснит для себя данное обстоятельство. Тем более, знает ведь, что я пью только зеленый чай, мог бы и не спрашивать.
– Грину, деда, грину, – ответил я.
– Грина, – эхом отозвался дед, обращаясь к помощнику чайханщика, который сразу же закивал и что-то быстро проговорил в ответ.
Чайханщик разлил зеленый чай по пиалам. Его в чайнике хватило ровно на столько, чтобы пиалы наполнились на половину своего объема. Таков здесь обычай. Чайханщик объяснял это тем, что чай в пиале быстро остывает, и поэтому целесообразнее наливать его малыми порциями, и тогда он всегда будет горячим.
Возможно, он и прав, но по мне в этот жаркий день было бы намного лучше, если бы чай был ледяным. После нескольких глотков кипятка я почувствовал, что моя рубашка вся намокла.
– Хорош чай, а? – дед блаженно прикрыл глаза. – Настоящий, узбекский.
Я вздохнул. Спорить с дедом, когда он в таком расположении духа, было бесполезно.
– Хорош, деда, – согласился я, делая еще глоток.
– Ты чего такой кислый? – дед откусил от вяленого урюка. – Молодой еще, а ворчишь как старик.
– Да жарко просто, – пробурчал я, обмахиваясь рукой. – И опять ты про свой «узбекский» чай. Он же индийский!
– Ну, для тебя индийский, – отмахнулся дед. – А для меня узбекский. Здесь его правильно заваривают, с душой. В Индии так не умеют.
– С душой? – я усмехнулся. – Это как? Чай с душой, шашлык с душой…
Дед грозно посмотрел на меня.
– Уважать надо традиции, – назидательно произнес он. – Ты молод и многого не понимаешь. Этот чай – не просто напиток. Это повод собраться, поговорить, отдохнуть от суеты. Понимаешь?
– Понимаю, деда, – я сдался. – Просто сегодня очень жарко, и мне бы холодненького чего-нибудь…
Дед смягчился.
– Ладно, – сказал он, махнув рукой помощнику чайханщика. – Давай, попросим у него чего-нибудь холодного.
Он что-то сказал помощнику на узбекском, и тот, оживленно закивав, убежал в чайхану.
– Что ты ему сказал? – спросил я с любопытством.
– Сказал, что внуку жарко и он хочет айран.
– Айран?! Отлично!
Я обрадовался. Айран был именно тем, что мне нужно.
– Вот видишь, – улыбнулся дед. – А ты ворчал. Нужно уметь находить хорошее во всем. Даже в кипятке в тридцатиградусную жару.
Я улыбнулся в ответ. Дед был прав. В конце концов, чай хороший, а скоро еще и айран принесут.
Вернулся помощник чайханщика, неся в руках запотевший кувшин. Наполнил из него наши пиалы до краев. Белый кисловатый напиток выглядел очень аппетитно.
– Ну, за здоровье! – провозгласил дед, поднимая свою пиалу.
– За здоровье! – ответил я, отпивая большой глоток айрана.
Холодный освежающий напиток мгновенно избавил меня от духоты. Я посмотрел на деда и улыбнулся.
– Спасибо, деда.
– Всегда, пожалуйста, внук. Главное – не ворчи. Жизнь и так коротка.
После обеда к нам подошел молодой парень в простой шахтерской одежде. Он внимательно осмотрел Буренку, погладил ее по морде и тихо спросил:
– Сколько вы хотите за нее?
Исо назвал цену. Немного выше, чем им предлагали раньше. Парень, не торгуясь, достал из кармана кошелек с деньгами и отсчитал нужную сумму.
Исо нахмурился.
– Почему ты не торгуешься? Разве тебе деньги легко достались? Это же базар. Здесь торговаться нужно.
Парень улыбнулся.
– Я знаю, что это хорошая корова. И мне нужна корова, чтобы кормить семью. Я не хотел вас обидеть.
Дед Исо смягчился.
Когда парень повел Буренку прочь, Асанкул вздохнул. Пыль, поднятая копытами, осела на его потрескавшееся лицо, словно печать грусти. Буренка была частью их жизни, молчаливым свидетелем скудных радостей и бесконечных забот. Он похлопал Исо по плечу, глядя, как уводят их корову.
– Ну что, Иса, продали Буренку, – сказал Асанкул, стараясь, чтобы голос звучал бодро.
– Теперь у нас есть деньги. Надо купить пальто этому оболтусу и новый чайник. А еще можем подстричься.
Я отвернулся, скрывая слезы. Я любил Буренку. Я помнил, как тайком делился с ней яблоками, которые воровал из сада соседа, и как зарывался лицом в ее теплую шерсть, когда было страшно. Но Буренку пришлось продать. Зима приближалась, и без денег они бы просто не выжили.
Мы зашли за базар, в небольшое поселение, где жизнь текла медленно и размеренно. Асанкул, сжимая в кармане смятые купюры, чувствовал себя богачом и улыбался.
Первым делом мы отправились к лавке старого Рахима. Рахим был и портным, и сапожником, и вообще мастером на все руки. Его лавка, пропахшая кожей, нитками и каким-то неуловимым ароматом трав, казалась островком тепла и уюта среди осенней серости. Увидев нас, он тепло улыбнулся. Его лицо, испещренное морщинками, светилось добротой.
– Асанкул! Исо! Что привело вас ко мне? – спросил Рахим, протягивая руки для приветствия.
Мой дед сжал его ладонь своей шершавой рукой.
– Рахим, нужна теплая одежда для моего внука. Зима близко, а у него совсем ничего нет.
Рахим окинул меня взглядом. Моя старая курточка была вся в заплатках, наспех пришитых дедом, а ботинки давно просили каши – сквозь дыры проглядывала пожухлая трава. Я потупил взор, чувствуя, как алеют щеки от смущения.
Рахим достал с полки кусок плотной грубой шерсти темно-коричневого цвета. Ткань пахла овцами и свежим воздухом. Он бережно развернул ее и принялся снимать мерки, проворно орудуя потертым портновским метром.
– Сошью ему хорошее пальто, – сказал Рахим, подмигнув мне, – да и ботинки поищу. Может, найдется что-нибудь из прошлогодних, что подойдет по размеру.
Я еле заметно улыбнулся. Новое пальто – это хорошо. Ходить в заплатках становилось все тяжелее с каждым днем, особенно когда ветер пронизывал насквозь.
– Ох, Рахим, дай Бог тебе здоровья, – проговорил Асанкул, вздыхая облегченно. – Я заплачу...
– Асанкул, – отмахнулся Рахим. – Ты же знаешь, для тебя и для Исо я все сделаю. Главное, чтобы мальчик не мерз. Зима – не время для скупости на тепло.
Рахим закончил измерения и отложил метр в сторону. Он внимательно посмотрел на меня, словно разглядывая что-то важное.
– Ну что, Рустам, как тебе идея с новым пальто? Нравится?
Я робко кивнул.
– Очень! Спасибо, Рахим-ака.
Затем мы пошли в хозяйственный магазин. Старый облупившийся чайник был нашим верным спутником много лет. Но он уже давно протекал, и кипятить в нем воду было мучением. Воды, казалось, выплескивалось из него больше, чем наливалось, а струйка, бегущая по плите к полу, вполне могла превратиться в целую реку.
Асанкул нахмурил брови, глядя на стенд с чайниками. Он остановился возле полки в самом углу магазина, почти в тени. Там, скромно притулившись между кастрюлями и ведрами, стояли они – простые, надежные металлические чайники.
Асанкул взял один в руки. Тяжелый прохладный металл приятно лег в ладонь. Дед постучал по нему костяшкой пальца. Звук был глухим и уверенным.
– Ну вот, – пробормотал он, скорее себе, чем мне. – То, что нужно.
Он повертел чайник, осмотрел дно.
– Крепкий, должен прослужить. А то этот – старый… – он махнул рукой в неопределенном направлении, подразумевая их обветшалую кухню и измученный чайник.
– Да, старый совсем прохудился, – согласился я, подходя ближе. – Каждое чаепитие – как игра в рулетку. Не угадаешь, куда плеснет в этот раз…
Асанкул усмехнулся.
– Точно. А этот, надеюсь, будет держать…
Он представил, как они будут пить горячий чай зимними вечерами, греясь теплом новой печки, которую он недавно сложил. За окном бушует метель, а в доме – уют и тепло, из носика нового чайника поднимается ароматный пар, и комната наполняется запахом чая и свежего хлеба.
Продавец, уставший мужчина с мешками под глазами, подошел к нам.
– Выбрали? – спросил он.
Асанкул кивнул, не отрывая взгляда от чайника.
– Да, этот берем. Сколько стоит?
– Двадцать рублей, – ответил продавец.
Асанкул вытащил из кармана потертый кошелек и отсчитал деньги.
– Держите, – сказал он, протягивая купюры продавцу.
Продавец молча взял деньги и завернул чайник в кусок оберточной бумаги.
– Спасибо за покупку, – буркнул он.
Выходя из магазина, Асанкул крепко сжимал в руках сверток.
– Знаешь, – сказал он, глядя вперед, – я думаю, этот чайник долго прослужит нам.
После магазина мы заглянули в парикмахерскую. Дед Асанкул давно не стригся, и его волосы отросли до плеч. Дед Исо тоже нуждался в стрижке. Мастер ловко орудовал ножницами, и вскоре Асанкул и Исо выглядели намного опрятнее. Бороды двоим аксакалам тоже подравняли.
После стрижки и бритья их облили шипящим одеколоном. Запах приятно щекотал нос.
Надо сказать, что мастера-парикмахеры стригли прямо на улице. В помещении было душно и жарко. А здесь, в тени большого дерева, было прохладно и свежо. Начиная с весны, с приходом настоящей жары, базарные парикмахеры выносили свои стулья, зеркала и ящики с инструментами на улицу.
К дереву, старому клену с раскидистой кроной, выстраивалась небольшая очередь. Мужчины, дети – все хотели освежить свои прически, ощутить легкий ветерок на свежевыбритом затылке. В парикмахерской, с ее раскаленной от солнца жестяной крышей, находиться было невозможно.
Стрижка под открытым небом была особенной. Казалось, будто сама природа участвует в процессе. Солнечные зайчики, пробивающиеся сквозь листву, ласковый ветерок, легкий аромат цветущего луга – все это создавало неповторимую атмосферу. Лязг ножниц, жужжание старенькой машинки, тихие перешептывания ожидающих – все это сливалось в умиротворяющую летнюю симфонию.
Я, будучи мальчишкой лет восьми, ждал с нетерпением. И вот моя очередь подошла.
Степан Израйлевич – высокий, тощий старик – взял обеими руками мою голову и стал задумчиво вертеть ее в разные стороны, что-то бормоча про себя. Потом он удовлетворенно хмыкнул и сказал:
– Я этому молодому человеку буду делать голову!
От удивления я заткнулся и дал усадить себя на скрипучий стул. Степан Израйлевич накрыл мои плечи клеенчатым передником с изображением детских героев.
– Ну, рассказывай, как жизнь молодая? – сказал Степан Израйлевич.
Кто-то из ожидающих начал возмущаться, что пришел раньше. Степан Израйлевич небрежно отмахнулся:
– Ой, я вас умоляю! Или вы пришли лично ко мне? Или я вас звал? Вы меня видели, чтобы я бегал по всему базару или откуда вы там себя взяли и зазывал вас к себе в кресло?
Опешившего очередника обслужил какой-то другой парикмахер. Степан Израйлевич не принимал очередь. Он выбирал клиентов сам. Он не стриг. Он – делал голову.
– Идите сюда, я буду делать вам голову. Идите сюда, я вам говорю. Или вы хочете ходить с несделанной головой?!
– Знаете, что чаще всего говорят клиенты, когда смотрят в зеркало после завершения прически? – спрашивает Степан Израйлевич.
– И что же?
– Они говорят: «Наконец-то я стал похож на человека».
Стрижка у Степан Израйлевича была не просто необходимостью, а целым событием. Пока он ловко обрезал мои непослушные вихры, я рассматривал окружающий мир: шуршащие листья клена, воробьев, купающихся в пыли дорожки, лица ожидающих.
Степан Израйлевич подолгу клацал ножницами в воздухе, елозил расческой, срезал по пять микрон и говорил, говорил не переставая.
Стриг он меня точно так же, как все другие парикмахеры стригли почти всех мальчишек: «под канадку».
Но он был не «другой парикмахер», а Степан Израйлевич. Он колдовал. Он священнодействовал. Он делал мне голову.
Ежеминутно со смешным присвистом продувал металлическую расческу – будто играл на губной гармошке. Звонко клацал ножницами, потом брякал ими об стол и хватал бритву – подбрить виски и шею.
В воздухе парила густая смесь запахов – лосьона после бритья, одеколона и свежестриженных волос. В маленькой уютной парикмахерской, где каждый уголок пропитан духом старого базара, кипела жизнь. Жужжали машинки, приглушенно играло радио, и между креслами, словно ласточки, сновали парикмахеры.
Разговор, начавшийся с обсуждения цен на сахар, плавно перетек в более увлекательную тему.
– Ну, Алим-ака, что скажете? Подровнять виски, как обычно, или что-нибудь поинтереснее? – спросил молодой парикмахер, Андрей, склоняясь над солидным мужчиной с газетой в руках.
– Да как всегда, Андрюша. Что тут нового придумаешь? – проворчал Алим-ака, не отрываясь от чтения.
– А вот как раз есть кое-что! – воскликнул Мейрим, орудующий ножницами над головой кудрявого подростка. – Хотите, расскажу?
На мгновение все стихли. Мейрим был известен своим острым языком и любовью к рассказам.
– Ну, что там у тебя, Мейрим? – улыбнулся Андрей, протирая лезвие бритвы.
– А дело вот в чем! – начал Мейрим, театрально взмахнув ножницами. – Посмотрел я вчера новый фильм, «Бродяга» называется. До сих пор хожу под впечатлением.
По парикмахерской прокатился тихий гул. Индийские фильмы с их песнями, танцами и душераздирающими сюжетами врывались в нашу жизнь ярким ураганом.
– Я вчера тоже ходила, – призналась пожилая уборщица, тетя Зина, смущенно опустив глаза. – С подругой. Плакала полфильма.
– Вот-вот! – подхватил Мейрим, воодушевленный поддержкой. – Как, вы еще не видели фильм? Сходите обязательно. Это же Радж Капур!
– Радж Капур? – переспросил Алим-ака, наконец оторвавшись от газеты. – Это тот самый, что в «Господине 420» снимался?
– Он самый! – подтвердил Андрей. – Говорят, в «Бродяге» он еще лучше.
– А сюжет какой! – продолжил Мейрим, не давая никому вставить слово. – Там любовь, бедность, несправедливость… Слезы градом льются! А какая музыка!
– Да, музыка там… – мечтательно произнесла тетя Зина, вспоминая услышанные мелодии.
Обсуждение «Бродяги» разгорелось с новой силой. Кто-то рассказывал про трагическую судьбу главного героя, кто-то восхищался красотой девушек, кто-то напевал запомнившиеся мелодии. Даже самые скептически настроенные клиенты, сидя на стульях, прислушивались к разговору, постепенно поддаваясь всеобщему восторгу.
Алим-ака, казалось, тоже проникся атмосферой.
– Знаете что, Андрюша? – сказал он, когда Андрей закончил его стрижку. – Сделайте мне прическу… как у Раджа Капура!
Андрей удивленно вскинул брови. Прическа «под Капура» была не самой простой задачей, но клиент всегда прав.
– Сделаем, Алим-ака, сделаем! – ответил Андрей, с энтузиазмом берясь за дело.
В парикмахерской снова зажужжали машинки и застучали ножницы. Но сегодня эта привычная симфония была дополнена новыми нотами – нотами индийской мелодрамы, мечтами о любви и надежде, которые, словно солнечный луч, пробивались сквозь серые будни нашей жизни. И пока Андрей колдовал над прической Алима-ака, в воздухе витал не только запах одеколона, но и магия кинематографа, способная сделать даже самого солидного мужчину немного моложе и немного мечтательнее. Ведь, в конце концов, кто не хочет хоть на миг почувствовать себя бродягой с добрым сердцем, ищущим свою любовь?
Был уже поздний вечер, и надо было возвращаться. Но тут моим старикам на глаза попалась приклеенная на дереве афиша фильма «Бродяга». Мы решили сходить в кино, переночевать в какой-нибудь чайхане и утром двинуться в обратный путь.
И вот мы с аксакалами сидим перед огромным, натянутым между двумя старыми тополями экраном летнего кинотеатра. Пыль поднимается от каждого движения, мешаясь с ароматом нагретой солнцем земли и цветущей акации. Аксакалы с важным видом попыхивают самокрутками, у меня в руках кулек с черными семечками. Фильм этот ждали все – и стар, и млад. Индия, далекая, сказочная страна, с ее песнями, танцами и страстями, манила нас, словно магнит. Да и Радж Капур, этот молодой, дерзкий, но такой обаятельный герой, покорил сердца всех, кто хоть раз видел его на экране.
Кинотеатр был под открытым небом, и его стены обступали старые деревья. В кронах этих самых деревьев, словно стайки любопытных воробьев, повисли мальчишки. Они тоже жаждали посмотреть «Бродягу», но, увы, не у всех нашлось достаточно медных монет на билет. Зато с дерева открывался отличный вид – пусть и несколько акробатический.
В предвкушении все стихло. Лишь цикады заливались в унисон, да где-то вдалеке лаяла собака. Наконец, потрескивая и шипя, проектор ожил. Белый прямоугольник экрана вспыхнул, и на нем появилась заставка «Бродяги». Громкие аплодисменты прокатились по рядам.
Начался фильм. Мы переживали за Раджа, за его сложную судьбу, за любовь к прекрасной Видии. Смеялись над его проделками и плакали, когда он страдал. Аксакалы, обычно такие суровые и сдержанные, и те украдкой смахивали слезу с глаз.
Мальчишки на деревьях то и дело перешептывались, вздрагивали от неожиданных поворотов сюжета и порой, забывшись, роняли вниз сухие ветки. Кто-то из аксакалов грозил им пальцем, но беззлобно. Все были поглощены фильмом, все были частью этой истории.
Когда заиграла песня «Авара хун», все подхватили мотив. Даже те, кто не знал слов, мурлыкали что-то себе под нос. Атмосфера была волшебная. Казалось, что мы все – жители Индии, переживающие те же чувства, что и герои на экране.
После окончания фильма никто не спешил расходиться. Все молчали, осмысливая увиденное. Аксакалы качали головами, обсуждая судьбу Раджа и рассуждая о добре и зле. Мальчишки спускались с деревьев, довольные и возбужденные.
Переночевали мы в ближайшей чайхане. В ту ночь мне долго не спалось. Я лежал и вспоминал «Бродягу». Вспоминал Раджа Капура, прекрасную Видию, мудрых аксакалов и отчаянных мальчишек на деревьях. И понял, что кино – это не просто развлечение. Это магия, которая объединяет людей, заставляет их чувствовать, сопереживать и верить в лучшее. И что даже в маленьком ауле, под звездным небом можно почувствовать себя частью чего-то большего, чего-то прекрасного и вечного. А «Бродяга» навсегда остался в моей памяти, как символ молодости, надежды и веры в любовь.
Конечно, мы были в диком восторге от фильма. Особенно запомнилась песенка из фильма:
Разодет я, как картинка,
Я в японских ботинках,
В русской шапке большой,
Но с индийскою душой.
Я в носках американских,
В узких брюках я испанских.
В русской шапке большой,
Но с индийскою душой.
Ночевали мы в ближайшей чайхане и раним утром стали собираться домой.
Перед возвращением мои старики обмыли удачные покупки. И потом всю дорогу танцевали и распевали песенку из фильма.
Шум базара еще звенел в ушах, а солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая степь в багряные и золотые тона. Асанкул прихлебывал чай из пиалы, довольно щурясь на Исо. Перед ними на застеленной кошме лежали их сокровища: новенький чайник, мешок отборного ячменя и отрез добротной ткани для рубашки Асанкулу.
– Ну, аксакал Исо, – Асанкул хлопнул себя по колену, – покупки удачные, дело сделано. Не грех и отметить, как у людей говорят. Надо дело обмыть!
Исо, с его морщинистым лицом и хитрым прищуром, согласно закивал.
– Обмыть, говоришь? Дело, конечно, хорошее.
Асанкул подмигнул.
– Вон, в той ложбинке ручей журчит. Водица холодная, как слеза девицы. А у тебя в бурдюке... еще должно остаться.
Исо весело засмеялся, обнажая редкие зубы.
– Ах ты ж старый плут! Все предусмотрел!
Не прошло и часа, как бурдюк деда Исо опустел, а два старых друга, слегка опьяненные и довольные, сидели у ручья, напевая в унисон.
«Аваара хун, май аваара хун…» – затянул Асанкул, качая головой в такт.
Исо подхватил фальшивым голосом: «Майн дил те куш бандха нахи…»
– Эх, Исо, – Асанкул похлопал друга по плечу, – хороший фильм посмотрели? «Бродяга»!
Вдруг Асанкул вскочил на ноги, зашатался, но удержался и, раскинув руки, закричал:
– Исо! А давай станцуем! Как в фильме!
Исо удивленно посмотрел на друга.
– Станцуем? Да мы же еле ходим, Асанкул! Куда нам танцевать?
– А ты попробуй! Молодость вспомним! Забудем про болячки! Забудем про старость!
Асанкул запел: «Аваара хун, май аваара хун…» – и начал неуклюже пританцовывать, изображая самого Раджа Капура.
Исо сначала смутился, но, видя задор в глазах друга, тоже встал. Он попытался повторить движения Асанкула, но ноги заплетались, и он чуть не упал.
– Ой, не могу, Асанкул! Смех один! – задыхаясь, проговорил Исо.
– Ничего, ничего! Главное – душа поет! А ноги подтянутся! Давай, Исо! Вспомни молодость!
Асанкул подхватил Исо под руку, и они, спотыкаясь и смеясь, продолжили танцевать.
Так мы добирались до дома, не спеша, до позднего вечера.
Вечер опустился над степью. Над костром, потрескивая, взлетали искры, а два старых друга, обнявшись, продолжали петь и танцевать, не обращая внимания на усталость и годы, чувствуя себя молодыми бродягами, свободными и счастливыми под бескрайним звездным небом…
Майрам-апа встретила нас с подозрительным прищуром, принюхиваясь к веселым аксакалам. Но, увидев новый чайник, разулыбалась.
На следующий день привезли мне и новое пальто, и новые ботинки.
Вечером, сидя у печки, Асанкул наливал чай из нового чайника. Я, облаченный в новое пальто, рассматривал свою новую обувь.
– Спасибо, ата, – прошептал я.
Асанкул улыбнулся.
– Не за что, сынок. Но знаешь что?
– Что?
– Весной мы обязательно купим новую корову. Да, Исо? Хорошую, молочную корову.
Я прижался к деду Асанкулу. Мы сидели в тишине, греясь теплом печки.
2025 год
Иллюстрация: Сахи Романов. Мальчик у костра ночью.
Иллюстрация к сказке «Сорок небылиц». 1955.
Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева